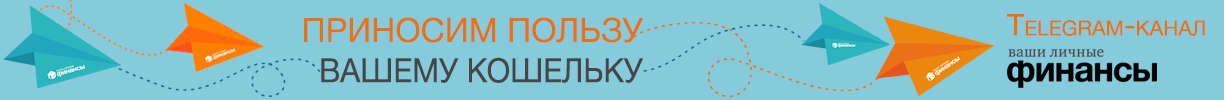В романе Пушкина «Дубровский» одна из сюжетных линий связана с тяжбой Троекурова и Дубровского за имение. Проецируя ситуацию на современное делопроизводство, можно утверждать: как и во времена классика, так и сейчас наличие оформленных прав собственности играет ключевую роль в судебном споре вокруг объекта недвижимости. Квартира, дача, участок земли или целое родовое поместье могут быть отняты у владельца, если он вовремя не оформил или утратил важные документы. Как суды рассматривали имущественные споры в XIX веке и имел ли шансы Дубровский сохранить имение сегодня?
Уповая на справедливость
Рассорившись с Андреем Гавриловичем Дубровским, Кирилла Петрович Троекуров поставил задачу судебному заседателю Шабашкину — отнять у бывшего друга имение Кистенёвку. У истца был комплект документов, подтверждающих права на имение его отца, Петра Ефимовича Троекурова. У ответчика же не оказалось никаких правоустанавливающих документов — бумаг, подтверждающих, что имение было передано его отцу Гавриле Евграфовичу на законных основаниях.
Нетрудно догадаться, какое решение вынес суд. Однако не все так просто. Для нас интересны исходные позиции и поведение всех причастных сторон, а не только беспечного ответчика.
Уповая лишь на справедливость и пренебрегая буквой закона, Дубровский стал жертвой собственного правового нигилизма. Истец Троекуров подключил административный ресурс, «дожал» дело в свою пользу и захватил объект недвижимости. Заседатель с говорящей фамилией Шабашкин явно подыграл истцу. Суд не вник в суть дела и рассмотрел его исключительно с формальной стороны.
Разберёмся по порядку в этой поучительной истории. Попутно рассмотрим некоторые понятия судопроизводства.
Суд да дело
В начале XIX века судебные дела рассматривались разными судами в зависимости от сословия истца. Дела дворян разбирал уездный суд; для городских обывателей и крестьян существовали иные судебные органы. Второй инстанцией, куда подавались жалобы на решения указанных судов, для всех сословий служила Палата гражданского суда. Высшей инстанцией по судебным делам являлся Правительствующий Сенат.
Шабашкин служил в уездном суде, и процесс по поводу Кистенёвки проходил именно там. Заседатель выяснил у своего влиятельного доверителя, что спорная деревенька когда-то была куплена отцом Троекурова, а затем продана отцу Дубровского. Теперь Троекуров хотел воспользоваться тем, что имение когда-то принадлежало его родителю.
Чтобы «дать делу законный вид и толк», Шабашкин поинтересовался, не сохранились ли у Троекуровых документы на Кистенёвку: «…если бы Вы могли достать от вашего соседа запись или купчую, в силу которой владеет он своим имением…». Однако выяснилось, что все документы, подтверждающие права Дубровских на имение, сгорели при пожаре.
Согласно Своду законов Российской империи 1832 года имение являлось недвижимым нераздельным имуществом. Сделки с недвижимостью подлежали специальному удостоверению: при смене владельца вносились записи в реестр и выдавались соответствующие документы. Так было в пушкинское время — и эта практика по сути не изменилась и сегодня.
В наше время регистрацией прав на недвижимость ведает Росреестр. В XIX веке при переходе прав совершались «акты укрепления» или «крепостные акты»: договоры на недвижимость (купчие, закладные, дарственные) регистрировались «у крепостных дел» — так назывались специальные конторы при судах.
При покупке Кистенёвки отцом Троекурова у прежнего владельца Спицына была составлена купчая — сегодня мы называем этот документ договором купли-продажи. Купчая была зарегистрирована при палате уездного суда — том самом, который позже рассматривал тяжбу Троекурова с Дубровским.
После регистрации купчей состоялось ее оглашение судом. Аналога этой процедуры сейчас нет, но в XIX веке без нее покупка недвижимости не считалась завершенной. Оглашение означало, что суд фиксирует переход права собственности и вводит нового владельца во владение имуществом.
Утрата Дубровским документов на имение стала решающим обстоятельством в деле о захвате недвижимости. При этом у него оставался шанс — он мог запросить выписку из записей крепостных дел. Суд также мог истребовать эту книгу. Но заседатель Шабашкин, действуя в интересах Троекурова, сделал все, чтобы следов записи никто не нашел.
Изумленный неожиданным запросом…
В сентябре Шабашкин подготовил документы от имени Троекурова, подал их в суд и добился необычайно быстрого рассмотрения. Уже через две недели суд направил запрос ответчику Дубровскому: «доставить немедленно надлежащие объяснения насчет его владения сельцом Кистенёвкою».
Дубровский отнесся к судебному обращению без должного внимания:
«Андрей Гаврилович, изумленный неожиданным запросом, в тот же день написал в ответ довольно грубое отношение, в коем объявлял он, что сельцо Кистенёвка досталось ему по смерти покойного его родителя, что он владеет им по праву наследства, что Троекурову до него дела никакого нет и что всякое постороннее притязание на сию его собственность есть ябеда и мошенничество».
И в этом была его серьезная ошибка. Ни в коем случае нельзя пренебрегать судебным запросом, каким бы нелепым он ни казался.
Дубровский понадеялся на справедливость. Он верил, что правда на его стороне, и никто не сможет ее оспорить. Но в жизни закон и справедливость — не всегда синонимы. Шабашкин победил Дубровского юридическим оружием, играя на своем поле: у помещика не было документального подтверждения прав собственности.
Непрактичный помещик — жертва «чернильного племени»
Дубровский-старший любил иронизировать над крючкотворством и продажностью судебных клерков, не предполагая стать их жертвой. Пушкин отмечает: он «всегда первый трунил над продажной совестью чернильного племени, но мысль сделаться жертвой ябеды не приходила ему в голову».
Дубровский оказался слишком высокого мнения о себе и недооценил опасность. Это говорит о неадекватной оценке реальности и недостатке житейского опыта. Высокомерие дворян в сочетании с непрактичностью разорило не одно имение.
Помещик не стал утруждать себя поиском документов или ссылками на крепостные книги и свидетелей. Лишь через некоторое время, «рассмотрев хладнокровно», он послал в ответ на судебный запрос «довольно дельную бумагу, но впоследствии времени оказавшуюся недостаточной».
С октября до февраля
Дело тянулось, участники не интересовались его ходом. И вот в феврале, спустя почти пять месяцев после начала «хлопот» Шабашкина, Дубровский получил приглашение явиться в суд.
Решение суда — «об удалении от распоряжения имением гвардии поручика Дубровского», то есть о лишении его права собственности. Так Дубровского лишили родового поместья, доставшегося ему по наследству.
Обжалованию не подлежит?
Мог ли пострадавший господин Дубровский обжаловать решение? Предположим, что он все же нашел средства на адвоката и оплату издержек. Однако перспективы обжалования были крайне сомнительными: документов, подтверждающих права на имение, у него по-прежнему не было.
При рассмотрении дела Дубровский не ходатайствовал об истребовании доказательств, что купчая его отца была заверена у крепостных дел. После оглашения искать доказательства было уже поздно. Апелляция не рассматривает новые доказательства — она лишь проверяет, насколько законным было решение суда.
Что же мог сделать Дубровский? Срочно обратиться к адвокату и добиться восстановления утраченных документов. А еще лучше — заняться этим сразу после пожара, по горячим следам.
По материалам, предоставленным компанией ПАКК.